
Русско-английская книга-билингва
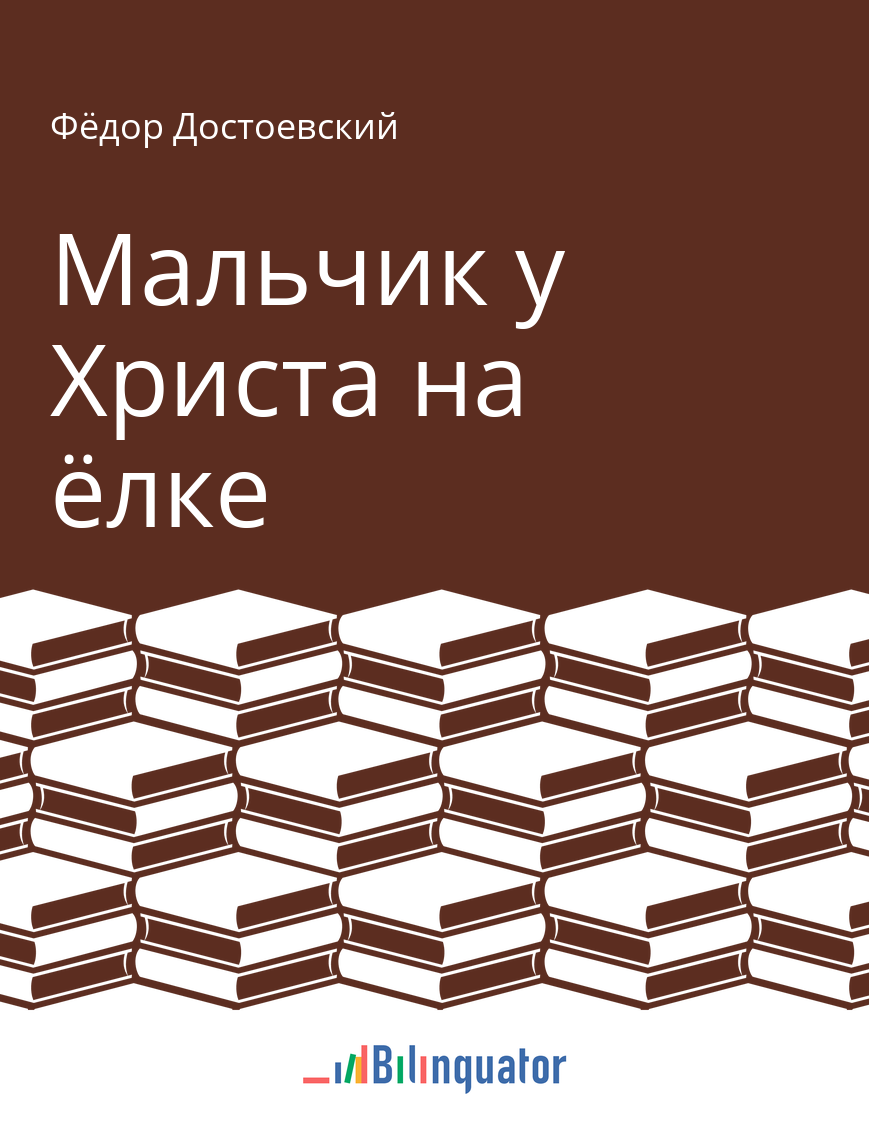
Фёдор Достоевский
Мальчик у Христа на ёлке
Feodor Mikhailovich Dostoevsky
The Beggar Boy at Christ's Christmas Tree
I. Мальчик с ручкой
I
Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед ёлкой и в самую ёлку перед рождеством я всё встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как лет семи.
В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьём, — значит его всё же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил «с ручкой»; это технический термин, значит — просить милостыню.
Термин выдумали сами эти мальчики. Таких, как он, множество, они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное; но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза, — стало быть, лишь начинал профессию.
На расспросы мои он сообщил, что у него сестра, сидит без работы, больная; может, и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма-тьмущая: их высылают «с ручкой» хотя бы в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то наверно их ждут побои.
Набрав копеек, мальчик возвращается с красными, окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь шайка халатников, из тех самых, которые, «забастовав на фабрике под воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее как в среду вечером». Там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жёны, тут же пищат голодные грудные их дети. Водка, и грязь, и разврат, а главное, водка.
С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит ещё вина. В забаву и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресекшимся дыханием, упадёт чуть не без памяти на пол.
…и в рот мне водку скверную
Безжалостно вливал…
Когда он подрастёт, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику, но всё, что он заработает, он опять обязан приносить к халатникам, а те опять пропивают. Но уж и до фабрики эти дети становятся совершенными преступниками.
Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал.
Само собою, становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят всё — голод, холод, побои, — только за одно, за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя.
Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живёт, ни какой он нации, есть ли бог, есть ли государь; даже такие передают об них вещи, что невероятно слышать, и, однакоже, всё факты.
II. Мальчик у Христа на ёлке
II
Но я романист, и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу: «кажется», ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне всё мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне рождества, в каком-то огромном городе и в ужасный мороз.
I am a novelist, and I suppose I have made up this story. I write “I suppose,” though I know for a fact that I have made it up, but yet I keep fancying that it must have happened on Christmas Eve in some great town in a time of terrible frost.
Мерещится мне, был в подвале мальчик, но ещё очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал.
I have a vision of a boy, a little boy, six years old or even younger. This boy woke up that morning in a cold damp cellar. He was dressed in a sort of little dressing-gown and was shivering with cold.
Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать.
There was a cloud of white steam from his breath, and sitting on a box in the corner, he blew the steam out of his mouth and amused himself in his dullness watching it float away. But he was terribly hungry.
Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала.
Several times that morning he went up to the plank bed where his sick mother was lying on a mattress as thin as a pancake, with some sort of bundle under her head for a pillow. How had she come here? She must have come with her boy from some other town and suddenly fallen ill.
Хозяйку углов захватили ещё два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мёртво пьяный, не дождавшись и праздника.
The landlady who let the “concerns” had been taken two days before the police station, the lodgers were out and about as the holiday was so near, and the only one left had been lying for the last twenty-four hours dead drunk, not having waited for Christmas.
В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к её углу близко.
In another corner of the room a wretched old woman of eighty, who had once been a children’s nurse but was now left to die friendless, was moaning and groaning with rheumatism, scolding and grumbling at the boy so that he was afraid to go near her corner.
Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашёл и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконец, в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена.
He had got a drink of water in the outer room, but could not find a crust anywhere, and had been on the point of waking his mother a dozen times. He felt frightened at last in the darkness: it had long been dusk, but no light was kindled. Touching his mother’s face, he was surprised that she did not move at all, and that she was as cold as the wall.
«Очень уж здесь холодно», — подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потом дохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошёл из подвала. Он ещё бы и раньше пошёл, да всё боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.
“It is very cold here,” he thought. He stood a little, unconsciously letting his hands rest on the dead woman’s shoulders, then he breathed on his fingers to warm them, and then quietly fumbling for his cap on the bed, he went out of the cellar. He would have gone earlier, but was afraid of the big dog which had been howling all day at the neighbor’s door at the top of the stairs. But the dog was not there now, and he went out into the street.
Господи, какой город! Никогда ещё он не видал ничего такого. Там, откудова он приехал, по ночам такой чёрный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется — никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь — господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз!
Mercy on us, what a town! He had never seen anything like it before. In the town from he had come, it was always such black darkness at night. There was one lamp for the whole street, the little, low-pitched, wooden houses were closed up with shutters, there was no one to be seen in the street after dusk, all the people shut themselves up in their houses, and there was nothing but the howling all night. But there it was so warm and he was given food, while here—oh, dear, if he only had something to eat! And what a noise and rattle here, what light and what people, horses and carriages, and what a frost!
Мёрзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошёл блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.
The frozen steam hung in clouds over the horses, over their warmly breathing mouths; their hoofs clanged against the stones through the powdery snow, and everyone pushed so, and—oh, dear, how he longed for some morsel to eat, and how wretched he suddenly felt. A policeman walked by and turned away to avoid seeing the boy.
Вот и опять улица, — ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что?
There was another street—oh, what a wide one, here he would be run over for certain; how everyone was shouting, racing and driving along, and the light, the light! And what was this?
Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это ёлка, а на ёлке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то.
A huge glass window, and through the window a tree reaching up to the ceiling; it was a fir tree, and on it were ever so many lights, gold papers and apples and little dolls and horses; and there were children clean and dressed in their best running about the room, laughing and playing and eating and drinking something.
Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеётся, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить.
And then a little girl began dancing with one of the boys, what a pretty little girl! And he could hear the music through the window. The boy looked and wondered and laughed, though his toes were aching with the cold and his fingers were red and stiff so that it hurt him to move them.
И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие — миндальные, красные, жёлтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придёт, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошёл. Ух, как на него закричали и замахали!
And all at once the boy remembered how his toes and fingers hurt him, and began crying, and ran on; and again through another window-pane he saw another Christmas tree, and on a table cakes of all sorts—almond cakes, red cakes and yellow cakes, and three grand young ladies were sitting there, and they gave the cakes to any one who went up to them, and the door kept opening, lots of gentlemen and ladies went in from the street. The boy crept up, suddenly opened the door and went in. oh, how they shouted at him and waved him back!
Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу.
One lady went up to him hurriedly and slipped a kopeck into his hand, and with her own hands opened the door into the street for him!
Как он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать её. Выбежал мальчик и пошёл поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берёт его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, господи!
How frightened he was. And the kopeck rolled away and clinked upon the steps; he could not bend his red fingers to hold it right. the boy ran away and went on, where he did not know. He was ready to cry again but he was afraid, and ran on and on and blew his fingers. And he was miserable because he felt suddenly so lonely and terrified, and all at once, mercy on us!
Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зелёные платьица и совсем-совсем как живые!
What was this again? People were standing in a crowd admiring. Behind a glass window there were three little dolls, dressed in red and green dresses, and exactly, exactly as though they were alive.
Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, — только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, — вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок.
Once was a little old man sitting and playing a big violin, the two others were standing close by and playing little violins, and nodding in time, and looking at one another, and their lips moved, they were speaking, actually speaking, only one couldn’t hear through the glass. And at first the boy thought they were alive, and when he grasped that they were dolls he laughed. He had never seen such dolls before, and had no idea there were such dolls!
Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, — и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».
All at once he fancied that some one caught at his smock behind: a wicked big boy was standing beside him and suddenly hit him on the head, snatched off his cap and tripped him up. The boy fell down on the ground, at once there was s shout, he was numb with fright, he jumped up and ran away. He ran, and not knowing where he was going, ran in at the gate of some one’s courtyard, and sat down behind a stack of wood: “They won’t find me here, besides it’s dark!”
Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страху и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть: «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, — подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, — совсем как живые!..» И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!»
He sat huddled up and was breathless from fright, and all at once, quite suddenly, he felt so happy: his hands and feet suddenly left off aching and grew so warm, as warm as though he were on a stove; then he shivered all over, then he gave a start, why, he must have been asleep. How nice to have a sleep here! “I’ll sit here a little and go and look at the dolls again,” said the boy, and smiled thinking of them. “Just as though they were alive! …” and suddenly he heard his mother singing over him. “Mammy, I am asleep; how nice it is to sleep here!”
— Пойдём ко мне на ёлку, мальчик, — прошептал над ним вдруг тихий голос.
“Come to my Christmas tree, little one,” a soft voice suddenly whispered over his head.
Он подумал было, что это всё его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и… и вдруг, — о, какой свет! О, какая ёлка! Да и не ёлка это, он и не видал ещё таких деревьев! Где это он теперь: всё блестит, всё сияет и кругом всё куколки, — но нет, это всё мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеётся на него радостно.
He thought that this was still his mother, but no, it was not she. Who it was calling him, he could not see, but someone bent over to him, and … and all at once—oh, what a bright light! Oh, what a Christmas tree! And yet it was not a fir tree, he had never seen a tree like that! Where was he now? Everything was bright and shining, and all around him were dolls; but no, they were not dolls, they were little boys and girls, only so bright and shining. They all came flying round him, they all kissed him, took him and carried him along with them, and he was flying himself, and he saw that his mother was looking at him and laughing joyfully.
— Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! — кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. — Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? — спрашивает он, смеясь и любя их.
“Mammy, Mammy; oh, how nice it is here, Mammy!” and again he kissed the children and wanted to tell them at once of those dolls in the shop windows. “Who are you, boys” who are you, girls?” he asked, laughing and admiring them.
— Это «Христова ёлка», — отвечают они ему. — У Христа всегда в этот день ёлка для маленьких деточек, у которых там нет своей ёлки… — И узнал он, что мальчики эти и девочки все были всё такие же, как он, дети, но одни замёрзли ещё в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонок, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей, во время самарского голода, четвёртые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей…
“This is Christ’s Christmas tree,” they answered. “Christ always has a Christmas tree on this day, for the little children who have no tree of their own …” and he found out that all these little boys and girls were children just like himself; that some had been frozen in the baskets in which they had as babies been laid on the doorsteps of well-to-do Petersburg people, others had been boarded out with Finnish women by the Foundling and had been suffocated, others had died at their starved mothers’ breasts (in the Samara famine), others had died in the third-class railway carriages from the foul air; and yet they were all here, they were all like angels about Christmas, and He was in the midst of them and held out His hands to them and blessed them and their sinful mothers.
А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнаёт своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слёзы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо…
… and the mothers of these children stood on one side weeping; each one knew her boy or girl, and the children flew up to them and kissed them and wiped away their tears with their little hands, and begged them not to weep because they were so happy.
А внизу наутро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замёрзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму… Та умерла ещё прежде его; оба свиделись у господа бога в небе.
And down below in the morning the porter found the little dead body of the frozen child on the woodstack; they sought out his mother too. … she had died before him. They met before the Lord God in heaven.
И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да ещё писателя? А ещё обещал рассказы преимущественно о событиях действительных!
Why have I made up such a story, so out of keeping with an ordinary diary, and a writer’s above all? And I promised two stories dealing with real events!
Но вот в том-то и дело, мне всё кажется и мерещится, что всё это могло случиться действительно, — то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об ёлке у Христа — уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться, или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.
But that is just it, I keep fancying that all this may have happened really—that is, what took place in the cellar and on the woodstack; but as for Christ’s Christmas tree, I cannot tell you whether that could have happened or not.